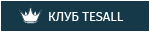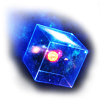Памяти Гиги
Человека, которого с нами нет
Шайсе! Шайсе! Шайсе!
Светловолосый молодой инквизитор благоразумно дождался, пока докрасна раскаленный выстрелом инфернопистолета дымящийся металл снова застынет, и осторожно выбрался через выплавленное в двери огромное отверстие. Лицо его, худое и юношеское, дьявольски пылало в мерцающем свете аварийных ламп, и, несмотря на то, что член Ордо Еретикус выглядел заметно осунувшимся – должно быть, так на слуге Императора сказывалось продолжительное заточение, в котором он оказался, – его лицо не потеряло привычной жизнерадостной маски, из-под которой на прогнивший, опороченный мир вокруг взирали два горящих, погружающих в оцепенение стеклянных глаза. Не утруждая себя красноречивыми элементами словесной эквилибристики, способной куда значительнее описать всю ценность проделанной гвардейцами работы, он бодро охлопал свое одеяние от налипшей на него пыли, пока из дыры позади, сопровождаемые зубодробительным скрежетом трущихся об оплавленные края силовых доспехов, выбирались наружу хмурые беловолосые бестии, тяжелым пронизывающим взглядом которых, словно от удара силовым топором, можно было переломить даже хребет из пластали. Их глаза, в отличие от глаз спасенного инквизитора, не блестели в стеклянных безжизненных отсветах, пока черные точки его зрачков хищно бродили по интерьеру мануфакторума и членам отряда, бросаясь обжигающими, почти ощутимыми молниями нездорового интереса: в глазах белокурых сестёр, что пылали с бледных, покрытых грубыми рубцами точеных женских лиц, солдаты Имперской Гвардии, разлагающиеся трупы ходячих мертвецов и холодные очертания помещения отражались лишь снедаемыми пламенем веры обугленными останками. Длань этих дев, закованных в громоздкие силовые доспехи, крепла лишь ради единственно верного деяния – кровавого благословения для мира в огне.
Охрим наблюдал за выбирающимися наружу узниками мануфакторума без особого энтузиазма, больше предпочитая сейчас вытащить из обшитого кожей кисета несколько самокруток лхо и задумчиво закурить, расслабляя возбужденное сознание осколками оседающего спокойствия. Он сразу узнал всю святую троицу – и сестер битвы, одна из которых латала его после тяжелого боя с отродьем хаоса, и молодого заносчивого инквизитора, которого сопровождали сороритки, – и это заметно исказило лицо гвардейца, временно исполняющего обязанности сержанта, гримасой неприкрытого раздражения. Охрим Шляхто, в каком бы звании он ни находился, все равно оставался солдатом Имперской Гвардии, обожженным жаром еретических лазганов снаружи и снедаемым думами о приближающейся кончине, вдохновляемыми хлесткостью всплесков скверны, изнутри – кампания на Фенксворлде, безумная и нескончаемая, просто выжгла из простого, как гроксово копыто, атамана всякую наивность о творящихся в Империуме делах, оставим за ним лишь право солдата ненавидеть всех, кто не причислен к обычной пехоте. Об инквизиторах из Ордо Еретикус говорили, что одно их появление на планете выкорчевывает всякую ересь, буквально выпаривая пороки зараженных Хаосом душ из плоти и крови падших граждан; говорили, что валькирии из ордена Милитант карающей плетью вычищают самые загаженные переулки, заставляя трепетать в страхе любого, кто хоть на йоту усомнится в силе Бога-Императора. Но это были лишь разговоры и пересуды, свойственные зеленому молодняку в редкие минуты отдыха меж выполнения боевых задач – а вот небритому, заляпанному кровью сержанту Охриму, наблюдавшему эту развернутую против еретиков кампанию с первых дней, уже вполне было ясно следующее: если член инквизионного Ордоса и воительницы Экклезиархии действительно были способны на то, что о них говорят, то им, б@#%дь, давно стоило это продемонстрировать.
Почему инквизитор бездействовал, будто специально затягивая эту самоубийственную войну, оставалось для Шляхто загадкой. Конечно, это были лишь предположения гвардейца, чьи сослуживцы сотнями гибли на полях сражений в то время, как этот светловолосый юнец бродил по улицам мира-улья, ковыряясь в трупах механикусов: однако тот недобрый холодок, пробежавший по спине Охрима в момент, когда представитель Ордо Еретикус жизнерадостно, как бы между делом сообщил о том, что оставшиеся за спиной вестроянцы – перебежчики Хаоса, с огромным трудом не превратился в еще один выстрел из инфернопистолета: какого черта этот урод не рассказал об этом раньше, когда докладывал о том, что оказался в западне на мануфакторуме?
— Идем, — сухо буркнул сержант, показывая инквизитору, кто здесь теперь командует парадом.
Паззл, соединивший информацию о предателях и тот оглушительный взрыв, который сотряс своды здания несколькими минутами ранее, пронзил болезненный, истощенный разум Охрима еще одним удручающим выводом: Розетта Честерфилд, Амели Бреденворд и Вилья Хаммерхолд, включая оставшуюся под их присмотром «Химеру», теперь были занесены в список допустимых потерь, о котором говорила полковник Брееда.
Посмертно.
***
— …Построение согласно Тактике Империалис, формирование и поддержка живого щита вокруг объекта охраны, — жестким голосом говорил Охрим, двигаясь во главе «клина» с тяжелым болтером в руках и стараясь придать речи необходимую четкость при выдаче приказов. — При обнаружении в зоне видимости любого юнита, кроме членов отряда мотопехоты, приказываю без раздумий и предупредительных выстрелов открывать огонь на поражение. Если убьете гражданского, механикуса, гвардейца или любого другого человека, лояльного Империуму, то помните, — Шляхто шумно перезарядил оружие, чеканя шаг, — выполнение миссии оправдывает
любые потери. Веруйте в Бога-Императора нашего, ибо силы противника превосходят наши, и только его свет может спасти нас от провала операции и смерти во имя его. Если же умрете, то помните, — сержант хмыкнул и сплюнул на пол, обернувшись на Дунгана и Максвелла через плечо; поглядев на подчиненных, он оскалил свои желтые клыки перед тем, как натянуть на голову расписной шлем, — душа ваша вознесется, а в загробном мире по заслугам и порокам нашим Бог-Император отделит праведников от грешников.
Отряд маршем возвращался обратно, проходя по коридорам, которые они не так давно очистили от оставленного здесь на убой нурглитского пушечного мяса, и щурясь от отблесков красного цвета. Охрим, хоть и шел впереди всех, старательно следил, чтобы солдаты поддерживали боевую формацию: сразу за ним, по левую и правую руку, двигались сестры битвы, затем шел Дунган, псайкер и, наконец, сам инквизитор, с которого, судя по всему, так и не спал беззаботный вид. Продвижение, несмотря на поддержку строя, было быстрым, и очень скоро солдаты приблизились к платформе-возвышению, с которой вниз, к выходу с мануфакторума, вели две широких лестницы.
И там их, разумеется, уже ждали.
Шляхто резко поднял правую руку и сжал кулак, сигнализируя отряду остановиться и приготовиться к бою, когда впереди, из темноты, послышалось невнятное бормотание нескольких голосов. К досаде сержанта, остаться незамеченными у солдат Имперской Гвардии не вышло: голоса резко умолкли, будто кто-то внезапно погрузил Охрима в холодный бесконечный вакуум космоса, и через несколько мгновений раздался пронзительный крик одного из вестроянцев, избранного товарищами за переговорщика.
— Гвардейцы! Мы не причиним вам зла! — огласил голос, загулявший по опустевшему мануфакторуму эхом. — Все, что нам нужно – это получить инквизитора, который сейчас находится под вашей опекой. Выдайте его нам, и никто не пострадает.
Затем повисла гнетущая тишина, разрываемая лишь стучащей в висках у Охрима кровью: он почувствовал, как у него вздулись вены от напряжения, но холодная голова – пожалуй, самое ценное приобретение гвардейца на фронте, – не позволяла эмоциям взять вверх. Заскрежетали зубы. Руки дрожали так, будто он снова вышел из недельного запоя после гуманитарной помощи в виде нескольких ящиков амасека, обнаруженных рядом с упавшим неподалеку от станицы Дикопольской грузовым транспортером.
Он был на грани.
— Кому они служат? — с интересом спросил Максвелл, шепотом прерывая тишину.
— Я знаю, кому они служат! — горячо, но тоже шепотом проговорил инквизитор. — Они служат Тзинчу!
— Слушайте, а не насрать ли, кому они служат?! — рыкнул Охрим, оборачиваясь к кружку юных натуралистов Хаоса и прерывая обсуждение озлобленным взглядом. — Где наши товарищи? — крикнул он затем, обращаясь уже к хаоситам.
Разумеется, он знал ответ.
— Они, — после некоторой заминки крикнул еретик, — не захотели
не пострадать.
— Хм… Хорошо. Если мы выдадим инквизитора, вы отпустите нас? — получив утвердительный ответ, Охрим многозначительно посмотрел на юношу и почти сразу почувствовал, как сгустилось напряжение со стороны сестер битвы, опустивших на сержанта свои тяжелые взгляды и положивших руки на оружие.
Ярмола, его товарищ, насупился и едва удержался, чтобы не брякнуть «Да нахер этого инквизитора!», но Шляхто не менее многозначительно достал из-за пояса крак-гранату и безмолвно показал на неё, призывая всех остальных последовать его примеру. Да, никто из отряда не видел противника – прямому зрительному контакту мешала перегородка, – но все прекрасно понимали, в какую сторону стоит бросать снаряд, чтобы выиграть первое очко. Когда гранаты оказались в руках у всех, кроме самого инквизитора, Охрим одобрительно кивнул, бросил еретикам что-то вроде «Сейчас, только обезоружим его!» и тут же, с хорошим замахом, метнул взрывчатку, представляя, как она впивается в лицо врага и превращает его в дымящееся ничто.
Овальные металлические снаряды засвистели, улетая в темноту за перегородкой, и Шляхто тут же вскинул болтер, направляя его в сторону правого от него лестничного спуска. Послышались взрывы, крики и топот двух десятков ног, однако хлюпающих звуков разорванной плоти не было: глядя, как гурьбой выбегают еретики в вестроянской форме, пока перегородку разрывают на части огнем мельтаганов, сержант осознал, что
ни одна чертова граната не попала ни в одну чертову цель.
— Похоже, вы не очень-то хорошо служите Богу-Императору! — прокричал инквизитор высоким голосом, стараясь перекричать шум завязавшейся битвы.
Когда Охрим уже набрал полный рот соплей, чтобы от души плюнуть высокомерному щеглу в лицо в надежде, что это хотя бы избавит отряд от деморализующего трепа этого засранца, прямо перед ним, едва не попав под дождь из болтерных снарядов, промелькнула сороритка в силовой броне, влетая в ближний бой сразу к троим предателям. Она замахнулась своим оружием один раз, второй, третий – и все её удары лишь рассекли воздух, не задевая ни одного из атакованных ей вестроянцев.
— Похоже, вы, мать вашу, не лучше! — захохотал Охрим, не спуская гашетку и глядя, как разлагаются на лужи кровавой грязи разорванные болтером враги. — За Императора, сукины дети!
Грохот стоял страшный; то, что было ранее перегородкой, теперь представляло собой наполовину расплавленное заграждение, пригодное лишь для того, чтобы за ней прятались тараканы или тощие тау. Разобрать что-либо было практически невозможно, и Шляхто успевал лишь бранить каждого врага, что попадал в его поле зрения, подкрепляя аргументы залпом из болтера – ровно до того момента, пока новый выстрел, окончательно пробив укрытие, за которым скрывался Дунган, не превратил его ногу в расплавленное ничто.
Охрим охнул от неожиданности – оттого, что «рыцарю-разбойнику» Эммерейку, немногословному и суровому, отсекло вдруг конечность, и оттого, что их единственный снайпер, пока сам специалист по тяжелому вооружению пытался сдержать атаку с правого фланга, вышел практически на передовую, подставляя себя под массированный огонь мельтаганов. Дунган вмиг побледнел и пошатнулся, обливаясь выступившими на лице градинами пота: он был недалеко от сержанта, а потому тот почуял отвратительный запах горелой плоти, который теперь источал обугленный, дымящийся обрубок Эммерейка. А затем… Затем стрелок, стиснув зубы и демонстрируя по-настоящему
боевой оскал,
оперся на почерневшую конечность и вскинул оружие, собираясь стойко продолжать подавление огнем со своей боевой позиции.
А через пару мгновений его броню прошил насквозь выстрел из лазгана, и Дунган с грохотом повалился наземь, распластавшись на холодном полу мануфакторума.
***
— Да. Я знаю. Это всегда тяжело. Да, мать твою, можно теперь сидеть здесь и реветь, как мелкая прохаоситская слаанешитская сучка, но мы с тобой сраные гвардейцы, Арнетта. Мы каждый день теряем своих товарищей, разглядывая их раскуроченные кишки и то, как эти кишки накручивают на дуло лазганов еретики. Каждый гребаный день мы просыпаемся для того, чтобы завтра сдохнуть, Арнетта. Поэтому вытри с лица сопли, затем вставай, мать твою, и возвращайся в строй, пока я не отвесил тебе еще один подзатыльник или не сломал нос ударом в лицо за неподчинение приказу, потому что сейчас надо решить: или ты лежишь здесь, рядом с его бездыханным телом, и глотаешь слезы до тех пор, пока я не прострелил тебе голову за задержку группы в выполнении задания полковника Брееды, либо ты встаешь, сплевываешь и всех рвешь.
— Как она? — сочувственно спросил инквизитор, когда Охрим отошел от плачущей девушки, пораженной смертью Эммерейка до глубины души.
— Жить будет, — отозвался сержант безо всяких эмоций, словно говорил об отправленном на забой гроксе. — В отличие от Дунгана и этих, — он задумчиво посмотрел на догорающие останки «Химеры», в сталь которой, как он подозревал, навсегда вплавило кости Розетты Честерфилд. — Что со связью?
— Восстановилась около минуты назад, и я… — инквизитор потер подбородок, —… я получил закодированное послание. В лагере полковника Брееды поднялся мятеж, организованный еретиками, — осторожно проговорил он, глядя на Охрима. — Направляться туда крайне опасно.
Шляхто поднял голову, но посмотрел на инквизитора исподлобья, пронзив хмурым взглядом.
— Мне было приказано доставить вас полковнику.
— Там слишком опасно, и у вас нет транспорта, чтобы добраться туда в срок, — мягким голосом отрезал юноша, одарив гвардейца сочувственной улыбкой. — Поэтому вы можете сопроводить меня к убежищу неподалеку, чтобы мы не теряли здесь время.
— У меня приказ.
— Нет, — вдруг холодным голосом возразил инквизитор, и Охрим почувствовал себя… не по себе. — Я
ни за что не направлюсь в лагерь, охваченный мятежом. Это поставит под удар не только мою жизнь, но и результат работы, которую я веду здесь последнее время. Угроза моей жизни – угроза удачному исходу этой войны, — договорил он и, чуть успокоившись, снова улыбнулся, не менее грустно.
После этого молодой инквизитор развернулся на сто восемьдесят и медленно зашагал вперед, удаляясь от остатков отряда мотострелковой пехоты. Сестра битвы – теперь единственная, так как вторая сороритка была расплавлена мельтой в пылу сражения – тут же последовала за ним. Охрим задумчиво провожал из взглядом, рассуждая, какое наказание его ждет за захват сопротивляющегося инквизитора и доставку к Брееде силком: прикинув, что так он явно сдохнет гораздо быстрее, Охрим с досадой сплюнул, махнул ладонью Максвеллу, Ярмоле и Арнетте, показывая, что они уходят, и пошел следом за удаляющимся «объектом защиты».
— У меня только один вопрос, — произнес Шляхто, нагнав инквизитора. Судя по тому, что тот был заметно доволен, решение Охрима юноша всецело одобрял. — Вам не доводилось встречать на заводе что-либо, имеющее…
крайне странную символику?
— В каком смысле странную?
— Ну,
необычную, — Шляхто замялся, рассуждая, стоит ли делиться с инквизитором мыслями о своей находке и не обещает ли это прямой расстрел прямо здесь, без суда и следствия. — Вроде
вот этой.
В руке у сержанта появился тот самый инфернопистолет, на котором были начертаны неопределенные символы. Инквизитор с интересом посмотрел на оружие, затем на Охрима, после чего сдержанно произнес:
— А, ну конечно. Это же символы Тзинча.
Охрим сглотнул. Затем, повинуясь неестественному, пронизывающему насквозь страху он отбросил пистолет в сторону, старательно вытирая руки об униформу: в голове все еще были свежи воспоминания о снах, которые посещали Шляхто после той чертовой коробки. Инквизитор тут же достал свое оружие и несколькими выстрелами превратил инфернопистолет в искореженный кусок металла.
— Кхм… Сэр?
— Да, гвардеец.
— А если бы я забыл о нем и вы его увидели, то я бы понес серьезное наказание?
— Я пристрелил бы тебя на месте, сержант.
— Хм… Чудесно, ничего не скажешь. Считали бы меня предателем?
— А то. Отбрось узколобый гвардейский устав, пока ты не вернулся в лагерь, где вокруг тебя только товарищи и братья по оружию. Добро пожаловать в мир, в котором я живу, каждый день уповая на милость Бога-Императора, сержант: мир, где самая настоящая опасность – это
угроза изнутри.




 Тема закрыта
Тема закрыта