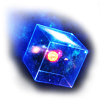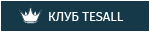And monsters are not all they seem


Хмыкнув и запрокинув голову, посмотрев на что-то или кого-то там наверху, он спрятал корень обратно под меха и схватился за ручку, открывая дверь этого небольшого, уединенного убежища.
С тихим хрустом изморози, сковавшей давно не смазанные петли, дверь поддалась под напором грубой руки; низко пригнув голову, мужчина с трудом прошел через невысокий проем в хижину, встретившую обветренное лицо волной тепла; не обжигающего жара пламени, но согревающего не одну лишь кожу, но и само сердце. Когда он выпрямился, расправив плечи и хрустнув крепкой, бычьей шеей, черноволосый мужчина неосторожно задел макушкой висящий под самым потолком костяной колокольчик, который издал переливчатую трель. Таких украшений в этом жилище было великое множество: висевшие под темным потолком пучки сушеных трав, небольшие амулеты из костей зверей, украшенных замысловатой резьбой, ловцы снов, украшения из разноцветных бус и фигурок птиц… Очаг, чьё пламя и встретило его первым, точно преданный пес, ныне мерно трещал сваленными поленьями, упрямо пытаясь изгнать хлынувшую из приоткрытой двери прохладу. Скрипнувший под его ногами пол был чисто прибран — лишь местами на светлой древесине можно было разглядеть неприметные бурые пятнышки. Ближе к очагу располагался укрытый белоснежной, вышитой алыми нитями скатертью дубовый стол, на котором располагалась небольшая чаша с малиновым, он помнил, вареньем и острый костяной кинжал с обмотанной тряпицей рукоятью.
Он услышал, как тихонько скрипнула расположенная в углу, ближе к очагу, кровать. Скользнув ладонью по столешнице, к закрывшему за собой дверь мужчине плавно вышла невысокая девушка. Совсем молодая, с густыми тёмными волосами и столь же темными глазами, сверкающими в свете очага попросту колдовской мудростью. Её платье, сшитое из множества разноцветных лоскутов, было украшено гладкими лентами, а на тонкой шее и запястьях висели многочисленные украшения из костей и янтаря. С улыбкой она приблизилась к переминающемуся с ноги на ногу мужчине, протянув к нему руки: бледные ладони обхватили бородатое лицо и привлекли к её лицу; мягкие, сладостные губы медленно встретились с его. Это не было жестом страсти или похоти, но кое-чего более разумного, щемяще, нестерпимо нежного. Мужчина решительно подавил позыв обхватить её за талию и привлечь к себе; странное, необъяснимое чувство тревоги отказывалось отпускать его рассудок.
— Ты вернулся, — с хитрой улыбкой отметила девушка, чуть отпрянув и протянув руки, дабы помочь ему избавиться от одежды.— Ты нашел?..
Ей не требовалось договаривать предложение до конца.

Она усадила его у очага, и после недолгого колдовства над небольшим котелком, с довольной улыбкой протянула ему парящую тарелку с похлёбкой. Рот вмиг наполнился вязкой слюной от пряного запаха овощей и мяса; во время его последнего захода в лес он задержался чуть дольше обычного; желудок протестующе, уныло заурчал, когда он не набросился на тарелку с первого же взгляда. И пусть в основе бульона были копчёности и соленья вместо свежего мяса, кушанье от этого не стало менее аппетитным ни на йоту. Когда он сел за стол, прежде чем схватиться за резную деревянную ложку, он поспешно снял висящий на шее вересковый корень — который занял место в сложенных лодочкой ладонях девушки.
Желудок разбушевался ещё пуще, когда вместо того, чтобы наброситься на угощение аки оголодавший медведь-шатун, он чуть нахмурился, разглядывая повернувшуюся к нему спиной девушку, которая приблизилась к располагающемуся близ очага пню с гротескно вырезанным на поверхности лицом и широко распахнутым «ртом»-дуплом. Он был готов поклясться, что в кусочки янтаря, которые покоились в глубине вырезанных глазниц пня, на миг сверкнули в отблесках очага чем-то вихрящимся, темным. Он специально искал для глаз янтарь с заключенными внутри небольшими насекомыми — инклюзами звались они, вроде. Она так обрадовалась, когда после долгих,
долгих поисков одним осенним вечером он запыхавшийся ввалился в их жилище и, ощутимо врезавшись на пороге лбом о слишком низкую перегородку, попросил её закрыть глаза. Когда сестра их вновь их распахнула, то увидела на протянутой ей ладони два идеально круглых камня — в одном был навеки заточен крошечный паучок, в другом же в золотом плену таилась пчела. Сестра так радовалась, право.
Сестра…
Он медленно, заторможено вспоминал; в голове перелетными птицами пролетали воспоминания долгих месяцев… нет,
лет вместе, бок о бок в глухой деревеньке. Брат и сестра — он всегда был крупным ребенком, крепким и сильным, и он всегда защищал её. Она была странноватой и хрупкой девочкой. Он помнил тогда, что в первый её год родители не думали, что она доживёт до зимы; слишком маленькая, слишком слабая, слишком… хрупкая. Темными ночами он, сидя возле освещённой лучиной люльки, наблюдал за ней, когда мать не выдерживала и погружалась в беспокойную дремоту после долгих часов, даже дней без сна; он нес своё бдение когда ему не было и пяти зим, разглядывая беспокойно спящую сестру и тихонько бормоча под нос невнятные, тихие молитвы — словно надеясь, что если он не сомкнет глаз, то с ней ничего не случится. Из всех многочисленных братьев и сестёр, многие из которых не дожили и до трех зим, он всегда защищал больше всего именно её: от деревенских детей, от собак, от жестоких взрослых, от пьяного отца, так и не оправившегося после смерти матери двумя годами назад и как-то вечером вернувшегося с ярмарки пьяным. Отец, пошатываясь и нависнув над хрупкой девочкой, говорил тогда что она была слишком похожа на маму.
Он не позволил ему и пальцем её тронуть.
За их спинами шептались, что она была ведьмой. Однажды она плюнула соседской девчонке в лицо, скривив красивое личико в гримасе отвращения и обозвав ту уродиной. Та девочка на следующее утро покрылась ужасными фурункулами с головы до пят.
Но он любил сестру. Куда сильнее, чем может — и
должен — любить брат. В один день они просто бежали. Бежали от мира, от людей, от объявшего их деревню пламени, лижущего их пятки и опаляющего спины, от
всего.
Пока он погрузился в воспоминания, поглощая содержимое лежащей перед ним тарелки с ароматной похлёбкой, девушка неторопливо сняла с пояса грубый нож и, перехватив бледными пальцами обмотанную тряпицей рукоять, вонзила клинок в вересковый корень. Та легко, охотно поддалась, словно мягкая пробка…или плоть. Из разреза медленно, словно ритмичным потоком, начинает струиться багровая тягучая жидкость, так похожая на кровь. Пальцы обагрились темным кармином, и сестра медленно, почти церемонно подносит окровавленный корень ко рту искусственного идола.
— Кровь мира — это то, что соединяет нас с тобой. — она обернулась, медленно приблизившись к тут же вставшему мужчине и протянув ладошку, проводя «окровавленным» пальцем по широкой груди, оставляя длинный, влажный след. — Не та кровь, что течёт в наших жилах, нет. Та кровь, что бьётся внутри наших душ; та, что соединяет нас прочнее самой прочной стали. — на её губах заиграла тонкая, немного грустная улыбка. — Помни же…даже в самый отчаянный миг помни, что я буду в твоём сердце так же, как ты в моём.
Её ладошка застыла над тем местом, где туго, тяжело билось в груди его сердце.
— И помни… — выдохнула сестра, прикрыв темные глаза, — нет ничего важнее, чем наша любовь. Любовь это то, что разорвёт любые цепи, сорвёт любое проклятье, изгонит ужаснейших из демонов. Люцифер подарил нам знание, он подарил нам разум…и научил нас любить так, как он любил нас.
Растерянно моргнув, он опустил взгляд на багряный след, на её «окровавленную» ладонь.
— Но что есть эта кровь мира? — он доверял сестре более, чем кому-либо ещё на этом свете, но происходящее таинство немного… смутило. Сестра и раньше делала подобное, но впервые она заговорила о столь удивительной вещи. Однако же… Всё его естество желало согласиться с её словами. Замявшись, он поднял на неё столь же темные глаза. — И… Люцифер?
Ему не требовалось завершить предложение для того, чтобы она поняла. Сестра со слабой улыбкой кивнула.
— Это плоть нашего мира. Она невидима, но она создаёт всё, что мы видим. Как ветер и воздух — она невидима, но она наполняет нас жизнью, — сестра со смешком подняла ладонь, потрепав его по взъерошенной голове. — Ты тоже взываешь к ней каждый раз, когда просишь богов послать тебе добычу, когда невидимый крадёшься по лесу, а я наблюдаю за тобой глазами ворона. Но ты поймёшь, ты точно поймёшь.
Она отступила к очагу, обхватив щуплые плечи ладонями. Багряный след, как ни удивительно, не оставался на её коже. Сестра замолкла на миг, прежде чем заговорить вновь; в её голосе появилась завораживающая, щемящая мечтательность.
— Люцифер подарил нам, людям, разум. Это он подарил нам способность обращаться к крови мира, слушать её биение в своём сердце, направлять её своим желанием, своей волей. Он приходил ко мне во снах, когда я была маленькой. Фигура, объятая пламенем, он делился со мной мудростью, я помню.
Мечтательная улыбка на её лице угасла. Мужчина беспокойно заерзал.
— Но темные люди скоро придут. Их флаги белые, но их сердца черней угля, как и кресты на их щитах.
— Мы… что-то можем с этим сделать? — неуверенно спросил он у сестры, чуть подавшись вперед, когда её ладонь взъерошила чёрные волосы на его голове. Её слова о людях с черными сердцами насторожили его, да что там — весьма и весьма обеспокоили. Он твердо верил в то, что сестра не ошибалась.
Девушка лишь улыбнулась и покачала головой, прижимаясь к его груди и рвано вздохнув.
— Увы, я тут бессильна. Но ты сильный, ты справишься. Помни, всегда помни — кровь сильнее всего, что может нас разъединить, моя любовь всегда будет с тобой, всегда…
Она медленно закрыла глаза, погружаясь в дремоту. Он и сам почувствовал это: на глаза наползает приятная истома и серая пелена. Звуки: мягкое потрескивание пламени, шорох ткани, затихающий звук бьющей в ушах крови доносились словно сквозь толщу теплой воды. Мужчина прикрыл веки, чувствуя, как в душу закрадывался бесконечный покой, убаюкивающий беспокойное чувство неправильности.
Но его спокойствие длилось недолго. Оглушительный стук в дверь; кошмары, что терзали его ночью погрузили свои железные когти в его грудь, то нехорошее предчувствие, до того дремавшее на границе сознания, взревело оглушительным набатом.
— Öffne die Tür, Hexe! — рявкнул за крепкой, закрытой на засов дверью гавкающий голос, прорывающийся через дверь и слюдяное окно. — Stellen Sie sich der Gerechtigkeit Jesu!
Он не мог распознать ни единого слова; лишь, прижимая к груди чуть зашевелившуюся сестру, ошалело разглядывал весенние деревья с разбухшими почками, зарождающуюся на полянке листву… и темное кольцо вихрящейся темноты, укрывавшей солнечный диск. Затмение?.. Нет, что-то иное. Что-то неправильное. Что-то, чему здесь не было места.

Мужчина почувствовал, как в этот краткий миг вся кровь схлынула с его лица. Резко обернувшись, он ошалевшим, злым взглядом загнанного в угол зверя уставился на дверь, запертую на засов — как и всегда. Жизнь в лесу приучала к тому, что лесные звери могли забрести в твое жилище, если ты забывал запереть его должным образом — отчасти потому слюдяное оконце и было столь небольшим, едва-едва пропуская свет. Полезно в случаях, когда в твоё жилище может ворваться медведь-шатун… или люди с черными сердцами. Заграбастав в охапку прижимавшуюся к нему сестру, мужчина быстро, затравленно заозирался по сторонам, бормоча под нос негромкую молитву Маре. Он знал старые порядки, знал то, что боги требовали дани в обмен на помощь — это было лишь честно, ведь так? С порывистым вздохом он поднес руку к своему лицу и вцепился зубами в грубоватую кожу, не поколебавшись и на секунду; рот наполнился солоноватой, горячей жидкостью. Он не испил её, вместо этого позволив ей стекать по ладони и челюсти — багряная полоса очертила его линию жизни, перетекая на линию сердца. Отыскав укромный уголок в их небольшом жилище, за небольшой занавесью возле кровати, он бережно усадил туда сестру, не прекращая яростно шептать молитву. Она не сопротивлялась; лишь скользнула ладонью по его щеке, медленно растворяясь в темноте, исчезая с его глаз. Небольшой заговор, на который он потратил несколько мгновений; это было делом рук богов и духов, ведь так?
Или… крови мира?
Схватив своё облачение из шкур, дабы наспех прикрыть очерченную на груди багряную полосу, да обмотав укушенную руку сдернутой со стола тряпицей, он подхватил топор, с помощью которого он и сумел извлечь корень легендарного древа. Настороженно он приблизился к двери, в которую с каждой прошедшей секундой долбили всё отчаяннее.
— Кто там? — хрипло рявкнул, перехватив рукоять топора, мысленно читая иной небольшой зарок, эдакую… молитву. Он не обращался ни к кому конкретному, лишь… собственного спокойствия ради.
«Гвоздей тебе в ноги, нет тебе ни пути, ни дороги, в этот дом не входи, зло своё сюда не привноси».
— Öffne die Tür, Ungläubiger! — раздалось по ту сторону озлобленное карканье; удары с той стороны стали более жесткими, более ритмичными. С каждым ударом дверь жалобно скрипела; он не мог отсиживаться здесь. Чуть оскалившись и тряхнув головой, он сдвинул рукой запор, не выпуская из другой рукоять своего грубоватого оружия.
Дверь с протяжным стоном распахнулась… и перед ним предстала картина шести рыцарей, стоящих на залитой солнцем поляне. Однако свет вокруг них словно преломляется, создавая тень; не касались их фигур лучи укрытого диска, словно как в той сказке — о человеке, что продал своё солнце. В руках они сжимали мечи, их лица скрывали металлические шлемы, а на белых щитах были нарисованы чёрные кресты. Столь знакомые, столь ожидаемые и нежданные, столь
ненавистные. Он порывистым шагом устремился вперед, прикрыв за собой дверь и перехватив поудобнее рукоять топора… и тут же застыл, как вкопанный. Эти люди в сияющих доспехах, в сочленениях которых переливались яркие, пронзительной чистоты кристаллы, словно вросшие в саму плоть — и их глаза. Эти светящиеся, бирюзовые глаза, с отрешенной безучастностью взирающие на растрепанного, ошалело моргающего бородатого мужчину с щербатым топором в руке.
— Иди с нами, — гулким голосом немного отрешённо говорит стоящий у входа рыцарь, на совершенно понятном на сей раз языке. — К чему сражаться? Не погибнешь сейчас — погибнешь потом. Твоя сестра обречена, как обречены все твои воплощения. Ты будешь принадлежать
мне и только мне. Во всех жизнях, во всех временах.
На мгновение его поразил ступор — в самую последнюю очередь он ожидал услышать и увидеть то, что лицезрел сейчас. Эти кристаллы, кажущиеся чем-то до яростной дрожи знакомым, эти глаза. А потом… потом пришло осознание. Его собственные глаза — такие же темные как у сестры, только зрачок от радужки более различим — вспыхнули опаской… и гневом. Обжигающей, решительной яростью.
— Нет.
Он мог — хотел даже — сказать многое. О том, что если он согласится, то потеряет всё, о том, что было ещё что терять, хотя бы саму его смерть, но… Был ли в этом хоть какой-либо смысл? Он помнил.
— Даже если я принадлежал… то не весь.
Кровь не твоя, — хрипло гаркнул мужчина, приготовив топор. Он должен был… —
Это ты не отберешь.
— Тогда я отберу твою жизнь! — оглушительно и яростно закричали рыцари точно один, с пронзительным визгом металла извлекая мерцающие холодной голубизной клинки.
Он ударил на опережение; с яростным ревом он ринулся тех двух, что стояли ближе всего, замахнувшись топором; поверхность лезвия вспыхнула подрагивающим, яростным пламенем, что было цвета свежей крови. Мужчина обрушил своё грубое, непритязательное оружие с поразительной силой: они не ожидали подобного, совершенно точно. Двое упали один за одним, пока грубое лезвие топора вскрывает их доспехи и кольчуги, с лёгкостью разрезая как раскалённый нож масло.
Крутанувшись на месте, мужчина с кряхтением отбил удары клинков двух рыцарей, которые отшатнулись, когда металл с жалобным лязгом отскочил от лезвия топора. Оставшиеся двое успели воспользоваться отвлечением растрёпанного, напоминавшего разъярённого медведя «лесника», ужалив сквозь плотные шкуры ощутимой вспышкой боли; но он лишь зарычал громче, перехватив поудобнее топор. Отбив одну из атак, он вновь занёс топор; этот удар, хоть медленнее, наверняка мог прикончить ещё двух, однако…
Рев раненого зверя раздался на всю часть леса, всполошив всех зверей в округе. Однако птицы, сидящие на ветвях, не всполошились, испуганно разлетаясь прочь от поля боя; вместо этого они сосредоточенно, словно ведомые чьей-то волей, налетели на шарахнувшихся рыцарей, целясь в прорези шлемов и сочленения доспехов, кроша когтями точащие в их спинах кристаллы; этого отвлечения было более чем достаточно. Сплюнув на изумрудную, примятую траву кровь, он ринулся вперед, с ревом взмахнув топором.
Звон. Чавканье погружающегося в плоть лезвия, шипение пламени, обжигающего кровящие раны… один за другим люди с черными аки уголь крестами на некогда белоснежных, а ныне — залитых кровью щитах падали на сырую землю. Поразительная тишина; прерывисто дыша он пошатнулся, с шипением схватившись за раненный в ходе схватки бок; ничего, с чем не справятся целебные травы и припарки, но мужчина не обманывался; более хлипкий человек бы после таких ударов остался валяться в траве.
Птицы кружили над головой, не издавая и звука. Трава, облаченные в измятые листья металла тела, его собственные руки — всё это было в крови. Теплой, горячей, обжигающей… на его глазах она медленно, неумолимо поднималась, поглощая траву и неподвижные тела, достигая его щиколоток, колен, пояса, груди…
Так много крови. Он отшатнулся, когда она достигла его горла, обернувшись и в ужасе увидев окно его жилища, трескающееся под напором льющейся наружу крови. Кровь лилась из двери, но поток был столь сильным, что слюда не выдерживала. Мужчина заорал во всю мощь лёгких, пузыри воздуха устремились ввысь в этом каскаде багряного потока. Он отшатнулся вновь.
…и она наткнулась спиной на стену душевой кабины, укрытой серо-чёрной плиткой, едва не поскользнувшись на мокром полу. С судорожным вздохом молодая девушка нервно пригладила мокрые чёрные волосы до плеч, откинув их и зажмурившись, чувствуя льющиеся из серебристой головки душа упругие струи воды на худощавом теле, когда она сама припала к стене, пытаясь отдышаться.
Странно. Она была готова поклясться, что видела…
…что? И почему она сейчас дрожала? Вода ведь была тёплой.








 Тема закрыта
Тема закрыта