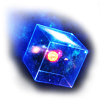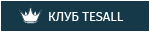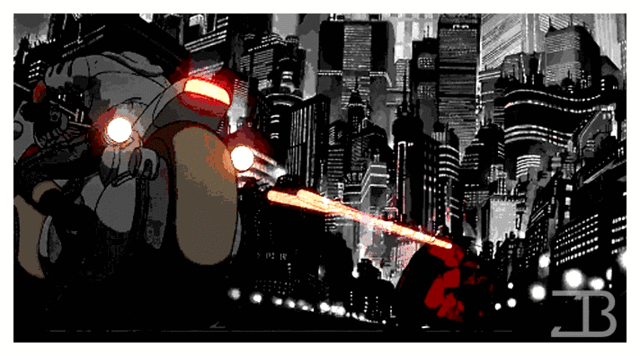Beautiful little things: третья часть

Она чуть приподняла цветастую, собственноручно вышитую из великого множества пёстрых лоскутков юбку, задержав дыхание и стараясь особо не глазеть по сторонам. В воздухе витала смесь из поразительно не сочетающихся запахов свежей выпечки и куриного помета, от разнообразия и смешивания которых живот крутило в рвотном позыве, но бледная девочка с рыжевато-тёмными волосами стойко поддерживала улыбку на своем лице так же крепко, как и пёструю юбку в маленьких ладошках. Их кумпания, остановившаяся близ фольварка пана Линевича, в данный момент готовилась двинуться наконец с места, и прямо сейчас ром баро отчаянно пытался договориться с самим паном этого небольшого поселения. Ну… отчаянно пытался договориться лишь пан, по-честному. Баро лишь с ослепительной улыбкой качал головой, да с настойчивостью осла стол на своём, повторяя из раза в раз одно и то же:
— Мы не должны долго оставаться на одном месте, гажэ, — мягко молвил он грудным баритоном, жестом прервав очередную тираду своего собеседника. — Это ваша черта, не наша. На закате мы двинемся в путь.
С одной стороны, был пан — среднего роста мужчина в годах, нервно поправляющий сползающую с головы бобровую шапку, представляющий собой образчик зажиточного человека в этой стране: под саяном, повязанным дорогим поясом, находились портки из крепкого шёлка, на поясе угрожающе покоилась в ножнах настоящая сабля. Серые глаза шляхтича настороженно взирали на баро; цыган, чужак, недостойный доверия. Это отношение было взаимно, впрочем. Борода у пана была действительно впечатляющей, однако — яркого рыжего цвета, пушистая и лоснящаяся. За своей бородой он ухаживал трепетнее, чем за своим фольварком, вестимо; не в обиду, но поселение отнюдь не отличалось роскошью и богатством. Потому кумпания и встала близ его стен.
С другой же стороны стоял их баро — невысокий, но крепко сложенный цыган, чьих смолянисто-чёрных волос уже коснулась седина, но чьи глаза всё так же блестели энергией и жизнью. Облачён он был в простого покроя белую рубаху; его портки были из обыкновенного чёрного льна, подвязанные красной тряпицей на манер пояса; сущая нелепица по мнению местных, как поняла это она. Пояса должны были носить лишь богатые — «шляхтичи». Это и отличало прала от гажэ — энергия, свобода и кровь, чистота которой трепетно хранилась, брали верх над статусом и тем, чем они обладали. Цыгане не понимали привязанности к вещам — это просто не имело смысла. Они брали то, что хотели, и с лёгким сердцем оставляли то, чего больше не желала их душа. Свобода, энергия и кровь. Кровь…

Она стояла чуть за спиной баро — совсем ещё девочка, не более двенадцати лет, быть может и младше. Точнее она и сама не помнила. Разумеется, через пару лет ей наверняка присмотрят мужчину, такого же чистокровного цыгана, но сейчас она просто радостно мотала головой по сторонам, рассматривая большущими зелёными глазищами проходящих чуть ниже по тропе женщин в просторных летниках, бросающих на неё и ром баро подозрительные взгляды, да лишь изредка морщила носик от обилия запахов — как уж было сказано, далеко не всегда приятных. Воздух фольварка был насыщен этими самыми запахами, точно их вардо — цыганами; сложно было сделать даже шаг, не почуяв что-либо новое. Её привели в это поселение гажэ впервые, пусть даже их кумпания уже довольно долгое время — слишком долго, даже — встала в подлеске за частоколом, к юго-западу от фольварка, соорудив небольшой лагерь.
— Нам нужен лишь фураж и немного провизии, — повторил цыган с беспечной улыбкой, запрокинув голову, проводив взглядом перелетающую с востока стайку птиц. Опустив взгляд на нахмурившегося пана, он с виноватой усмешкой пожал плечами. — Мы благодарны за гостеприимство, гажэ, но всему приходит конец. Нам пора в путь.
— Это немудро, — с тяжёлым вздохом буркнул пан, поглаживая роскошную рыжую бороду, — однако удерживать вас я и не собирался. Лишь советовал подождать, пока дороги станут более безопасными. Поговаривали, что на тракт выходили русичи.
На самом деле, даже такой простой совет был удивительным; весьма и весьма немногие гажэ принимали близ своих поселений цыган с подобным… не радушием конечно, но без враждебности? Девочка, всё так же поддерживая ладонью длинноватую юбку, дабы та не запачкалась раньше времени, за неимением лучшего принялась глазеть на бороду пана. У мужчин-цыган в её кумпании тоже были бороды, но таких пушистых не было точно. У цыган бороды были чёрными и жесткими. Она даже представить не могла, как пан выглядел без своей бороды.
Сделав небольшой шажок в сторону подозрительно изогнувшего бровь пана, она остановилась почти вплотную к нему и запрокинула личико, обрамлённое пушистыми рыжими волосами, с любопытством разглядывая бобровую шапку. От него очень сильно пахло чем-то кисловато-горьким, напоминающим содержимое оплетённых, пузатых бутылок, которые прала вечерами передавали друг другу у костра под дружный хохот и истории о былом.
— Я, кхм, — пан, явно занервничав после того, как она приблизилась к нему, шмыгнул носом и вот уже в который раз поправил свою шапку. — в общем, вас не задерживаю, барон. Отбываете — значит есть причина, хм.
Тот чуть сощурился и улыбнулся, схватив ребенка за плечо и без обиняков подтягивая её к себе.
— Батер. Да будет так, гажэ.
Сдержанно кивнув всё так же улыбавшемуся барону, пан отвернулся и вразвалочку направился обратно в своё жилище. Она понимала, что он не был самым богатым из «шляхтичей», ибо управлял своим фольварком лично, а не… как бы ни делали другие… однако руки у него не были загрубевшими, как у возделывающих землю гажэ. И кожа у него была розовой, а не смуглой, как у цыган: вряд ли он так уж много времени проводил под солнцем? Тем временем, баро взял её за руку и отвел чуть в сторону.
— Итак, девочка, — негромко проговорил он, глядя на неё с хитринкой в блестящих чёрных глазах, — судя по твоей довольной мордашке, гажэ ненамного обеднел, хм-м?
Без какого-либо стыда она радостно закивала в ответ, извлекая на свет небольшой, расшитый золотом кошелёк, до сего момента спрятанный в складках юбки, которую она поддерживала. Воровство не было грехом для тех, в ком текла хоть капля цыганской крови… по крайней мере воровство у чужаков, а не других цыган. «Бужо», они звали это.
— Славно, славно. Однако не расслабляйся, пен. В следующий раз у тебя может и не быть такого отвлечения, — тихонько хмыкнул баро, похлопав её по головке и за руку ведя в сторону врат фольварка. Она недоуменно нахмурилась.
— Глупо, ром баро. Я же никогда не перестану быть цыганкой!
Он расхохотался, потрепав её пушистые волосы. Разумеется, она была права. Если вдруг ей понадобится, как сказал он, «отвлечение» — она всегда может попросить о помощи любого цыгана.
Это лишь естественно.
Они пробыли близ фольварка обворованного пана Линевича ровно столько времени, сколько требовалось на приобретение фуража и провизии, во многом — на деньги же обворованного пана, которые рыжеволосая девочка с лёгкой душой и без раздумий отдала старшим. Это было на благо кумпании, и разумеется она отдала их старшим. Цыгане никогда не привязывались к имуществу, ибо и в этом крылась собственная клетка и капкан, в которые гажэ забирались по собственному желанию. Цыган не променяет свою волю ни на что, даже в подобных мелочах. Её же учили именно так.

За такую хитрость и смекалку ей позволили, когда вереница вардо двинулась в ближайший город с удивительно гнетущим названием «Могилев» — от слова «могила» ли, иль здесь крылся иной подтекст, она не знала — забраться в вагончик с самыми старыми прала, и послушать их истории. Она слушала с блеском в глазах, лишь изредка морщась, когда баба Мирелла — так звались немолодые, но мудрые цыганки, причем в уважительном смысле, а не как у гажэ — заплетала её темно-рыжие волосы, экспериментируя с косами и разноцветными ленточками. Поджав ноги, на лодыжках которых иногда позвякивали полые позолоченные браслеты, девочка слушала с приоткрытым ртом. Слушала историю о Слиянии, слушала именитых цыганских семьях: слушала о Равнос, шилмуло, «холодных мертвецах», что вместо вина пили теплую кровь живых, слушала о Люпинах, что могли менять форму и надевать на свою плоть волчьи шкуры, слушала об Урмен, чьи души принадлежали царству Грёз и сказок, о Фури даи, одной из самых известных цыганских семей, что знали понемногу обо всех аспектах изнанки этого темного, темного мира, о Цукара — семье, фанатично преданной чистоте цыганской крови, прала которой выслеживали всех, кто осквернял её. Их ненависть по отношению к шилмуло была притчей во всех языцех, в особенности — к Равнос; они считали, что изнанка мира и все сверхъестественные её создания затуманивали взгляд фралов, истинных, чистокровных цыган, отрывали их от истинного предназначения, отрывали их от возможности принять решение в Слиянии.
Она не понимала большую половину сказанного; уже под утро, проснувшись, она извинится перед посмеивающимися стариками за то, что задремала на рассказе о молодом цыгане и украденном им гвозде, которым желали распять Иисуса — истории о том, почему воровство более не было грехом для кочевого народа. Ей снились… странные,
пугающие сны в эту ночь. Семечко клубящейся тьмы, окруженное пылающим, ослепительным светом, бесконечный холод ожившего мрака и пугающий, пронзительный взгляд колючих звёзд, выстроившихся в подобие глаз — мириады уставившихся на неё глаз, презрительных, насмешливых,
ненавидящих…
Когда она проснулась, дрожа в кровати их с мамой вардо, они были уже в Могилёве.
Этот город больше всех, что ей доводилось увидеть прежде. Не то чтобы за свои — десять, двенадцать лет? — девочке довелось увидеть так уж много. До сего момента их кумпания старалась избегать крупных поселений гажэ, как и избегала она крупных трактов и протоптанных троп, избирая лишь в случае крайней и абсолютной необходимости. Никто не возражал; насколько цыгане ни любили людское общество, гажэ никогда не могли понять душу фрала. Слишком привязанные к своему месту, к своему имуществу и своим связям, «возвысившиеся» над диковатым кочевым народом в своей образованности и тяге к изящным искусствам, они казались последним самым приземленным, что только можно было отыскать под небесной твердью. За свои двенадцать — или десять? — лет она повидала куда больше любой женщины или мужчины, что косились на их немаленькую группу, впервые вошедшую в стены Могилёва, с опаской, недоверием и даже враждебностью. Проблема лишь в том, что… она не знала, где именно побывала. В отношении названий, то есть.
Когда ром баро выслушивал пожелания своих собратьев относительно того, о чем он должен был попросить войта города, она спросила одного из цыган их кумпании — высокого, худощавого мужчину с острыми скулами, длинным, чуть с горбинкой, носом и блестящими глазами. Тот со смешком почесал щетину, уставившись на простершуюся перед ними рыночную площадь. Людей здесь было не протолкнуться; ей пришлось зацепиться за юбку матери, статной, почти пугающе высокой цыганки, которая была на голову выше ром баро, лишь чтобы поспевать за кумпанией. Впрочем, не стоило бояться того, что её снесут толпы гажэ; последние шарахались от пёстрой кумпании, как от прокаженных.
— Где побывали, спрашиваешь? Ну, много где! Что же до самого маршрута… — он нахмурился и прикрыл глаза, явно пытаясь вспомнить. — Хм. Из Османской Империи мы направились в Балканы — там мы пробыли всего пару дней, собственно — потом была длинная стоянка в Сербии — Крушевац, славное местечко, мы светлячков там ловили, помнишь? Так вот… — он в последний момент успел перешагнуть через кошку с большой, вяло дергавшейся мышью в зубах, рысцой шмыгнувшую промеж его ног куда-то в сторону большого, но узкого белого здания, тянущегося вверх так, словно его сплющили с боков. — Потом…потом мы прошли через Венгрию, оттуда — в Священную Римскую Империю. Знаю, знаю, то ещё названьице, да? Уже там остановились в герцогстве Австрийском, вроде. Далее шли на север, сквозь земли Моравии, через Богемию в Малую Польшу, оттуда в Померанию, через герцогство Прусское, в Литву на территорию воеводства Тротского, на юго-восток, через Новогрудское воеводство вниз по Неману, миновали Минское воеводство…
— Ты что вообще несешь, дило?! — рассержено вскрикнула её мать, схватив за ручку зашатавшуюся девочку, глазки которой начали медленно и неумолимо разбегаться в разные стороны. — Посмотри, что ты наделал!
— Она сама спросила! — протестующе брякнул мужчина, заслонившись от разъярённой женщины, которая мстительно огрела его тяжелым платком из плотной ткани. Правды ради — на этом самом платке были подшиты небольшие металлические кругляшки, что определённо прибавляло удару весомости.
— Это не значит, что должен ей всё это рассказывать, пёс!
Тем временем баро уже отделился от их основной группы цыган, направившись прямиком к дому войта — тому самому белому дому, в сторону которого и скрылась кошка со своей добычей. Там должна была располагаться и его канцелярия, как поняла девочка — неудивительно, что войт предпочитал всё делать в одном месте. Типично для гажэ, она бы сказала.
Тем временем цыгане неспешно разбредались, с энтузиазмом исследуя новую территорию, на которой они намеревались остановиться как минимум в течении пары недель, а то и больше. Девочка шагала вслед за матерью, с приоткрытым ртом разглядывая необычные, массивные дома, и пялилась в ответ на глазеющих на неё гажэ. Пару раз она им улыбалась.
Разок ей даже улыбнулись в ответ. Улыбнулись искажёнными,
искривленными гримасами, словно кто-то руками размазал их по лицу, словно глину; улыбнулись отражениями в стёклах домов, улыбнулись всполохами в тенях, улыбнулись блеском монет, которые она ловко вытащила вместе с кошельком из кармана какого-то зажиточного шляхтича, улыбнулись клеймом на её коже, улыбнулись звёздами в отражении солнечного неба…
Улыбнулись. Но лишь разок.
Ей уже без препон позволяли свободно гулять по Могилёву; кумпания, в частности мама, понимали, что девочка была достаточно шустрой для того, чтобы избежать возможных неприятностей, и достаточно хитрой для того, чтобы всегда прибыть на их стоянку не с пустыми руками. Кошельки, небольшие драгоценности, милостыня, которую она просила голоском настолько жалобным и отчаянным, что даже недобро косившиеся на неё прохожие с самыми чёрствыми сердцами не находили в себе сил пройти мимо. Мама лишь тихонько посмеивалась, когда девочка поздним,
поздним вечером плюхалась в кровать и, с головой зарывшись в тёплые лоскутные одеяла небольшого ложа в самом конце их вардо, энергично рассказывала о прожитом дне в качестве уличного босяка.
— У тебя настоящий талант к бужо, дочка, — мурлыкала мама, бережно расчёсывая густые, темно-рыжие волосы. — Истинно цыганская кровь…
Девочка с большущей улыбкой кивала в ответ, после чего, широко зевнув, перекатывалась к стеночке, кутаясь как можно теплее. Почему-то ей было жутковато спать на краю после того раза, как извивающиеся, усеянные гневно сверкающими звёздами чёрные отростки, словно вырванные из участков ночного неба, пытались схватить её за ногу.
Некрасиво так делать.
Именно в один из таких дней, в середине августа, она нечаянно налетела на старого знакомого.
— Ай! — вскрикнула от неожиданности бледная девочка, потирая саднящий после встречи с чем-то тяжёлым и холодным лобик.
Удивительно даже — она, прикрыв один глаз, сейчас увидела перед собой дорогую ткань повязанного поясом саяна, но по ощущениям — словно впечаталась лицом в лист металла. Запрокинув голову, она от неожиданности разинула рот, застыв точно огорошенная. Лишь из-за этой секундной задержки она и оказалась в передряге. Лишь секундная задержка.
— Кто… — не высокий, но и не низкий мужчина в бобровой шапке обернулся, с подозрительным прищуром уставившись на врезавшуюся в него цыганскую девочку. У него была поразительно роскошная борода… поразительно знакомая борода. С торжествующим воплем он, аки атакующая змея, бесцеремонно схватив взвизгнувшего ребёнка за предплечье.
После такого точно останутся синяки.
— Я тебя помню, зараза! — низко зарычал он, приподняв отчаянно брыкавшуюся цыганку в воздух и положив ладонь на рукоять висевшей на поясе сабли, — это ты мой кошелёк тогда стянула, змийство окаянное? Отвечай!
— Отпусти! Ничего я не тебе сделала! — отчаянно хныкала девочка, обернув залитое слёзками личико к ошеломлённым прохожим. — Я просто мимо проходила!
— Просто мимо?! Где кошелёк, сучья дочь? Отвечай! — рявкнул пан Линевич, как следует её встряхнув. Браслеты на лодыжках цыганки жалобно звякнули. — Я позволил вам остояться близ моего фольварка, и этим вы мне отплатили!
— Ну не делала я ничего! — горестно всхлипнула девочка, уставившись на него большущими, заплаканными глазами. — Проверьте, коль желаете, нет на мне вашего кошелька!
— Разумеется нет, тож неделю-другую назад было! Вы же истратили всё ужо, разбойники!..
В этот самый момент, раздался звук. Странный, пугающий звук, от которого маленькая фрала застыла, обречённо повиснув над землёй, сердитый пан быстро подняв взгляд в сторону городских ворот, а другие граждане — все, как один — испуганно заозирались. Многие понимали, что это было лишь делом времени. Немногие знали, что это было закономерным исходом — из города были выведены все войска, в конце-то концов. Тогда, для простого люда, не посвящённого в столь тонкие материи, как внешняя и внутренняя политика, люда, который лишь хотел спокойно жить в своём городке, это было предательским, неожиданным ударом поддых, однако верхушка шляхты знала, что такое произойдёт.
Могилёв, который был назван, со слов их баро, «Могилой Льва», был атакован.
Девочка не помнила тогда, почему пан, который до сего момента был готов публично её выпороть, если не хуже, потащил ошарашенную цыганку за собой в безопасное место. В итоге она, погружённая в какой-то ледяной ступор, обнаружила себя в каком-то подобии жилого двора, заполненного перепуганными иногородцами до самого потолка. Она не вслушивалась о том, что русичи пока не прорвали оборону, что стража стен всё ещё держалась. Не слушала, как другие
гажэ — прибывшие сюда, аки сам пан Линевич, по делам ли торговым, иль ещё зачем — бурно обсуждали друг с другом, что подкрепления не будет, и что поражение было лишь делом времени. От запахов страха, непонимания, гнева и ярости, зловонием которых был наполнен воздух этого оцеплённого города, её тошнило до слёз в глазах. Девочка пыталась отвлечься, думала лишь о том, что случилось с кумпанией; о том, почему она не увидела ни одного прала, что наверняка в это время находились за стенами города, о том, что случилось с теми, кто оставался на стоянке — со стариками, с мамой… Она жадно ловила любые упоминания о цыганах из уст гажэ, в компании которых себя обнаружила, но никто из них не говорил ничего. Когда кто-то обмолвился, что округ города осталось лишь выжженное пепелище, её сердце ухнуло куда-то в область желудка, остановившись на мгновение, и… негромко, неслышно в какофонии множества спорящих голосов, в её голове что-то хрустнуло.
Именно в тот момент она начала видеть что-то странное. Что-то пугающее.
Осколки. В некоторых из посетителей девочка, не вымолвившая с момента ужасающего события ни слова, видела осколки блестящего, гранёного стекла, напоминающие переливающиеся кристаллы прозрачных драгоценных камней — лишь крупнее. У кого-то подобный осколок торчал в груди, у которого — из виска головы, у других ладони обеих лук были пронзены осколками… вечером третьего дня осады она, подняв глаза на пана, который медленным, но крепким и каким-то упрямым шагом мерил пол жилого двора, положив ладонь на рукоять своей сабли. В нём тоже был осколок. Бледный, слабо пульсирующий каким-то трепещущим светом, он торчал в его спине — словно кто-то предательски вонзил его туда. Поджав обескровленные губы, она отвернулась, стараясь не глядеть на кровавые отпечатки, со шлепками появляющиеся на стекле окон жилого двора, не обращать внимания на растекающиеся по поверхности узоры, не обращать внимания на странные закорючки, которыми пестрил каждый дюйм стен и потолка. Её никогда не учили читать. Цыганам не нужно было читать; всё, чему они обучали своих детей, они обучали их вслух. Потому мама и разозлилась тогда; ей не нужно было знать названия городов гажэ, ибо как всегда, рано или поздно они обернутся пепелищами. Слова же сохранятся; великая сила таилась в том, что передавалось из уст в уста, говорили цыгане и цыганки. Но хватило ли её, этой силы, на то, чтобы хоть кто-то из них выжил?
Она не могла здесь оставаться. Не могла,
не могла. Чьи-то пальцы погружались в её голову с каждой проведённой в этой тесной клетке минутой, нащупывая,
ища…
Они прорвались на пятый день. На пятый день воздух наполнился криками агонии и страха, на пятый день кровь брызнула на брусчатку этого города.
На пятый день Могилёв горел.
Она помнила смутно, как она, прихрамывая, выбежала на озарённые пламенем горящих зданий улицы города, задыхаясь и дрожа от ужаса. Прямо на её глазах пан Линевич, с потоком отборных ругательств размахивающий своей саблей на ступеньках и, с проворством хорька уворачивающийся от тычков пикинеров, зарубил шестерых из них. Одному он снес голову, словно то было лишь полевым чучелом. Второй рухнул на колени, схватившись на брызжущую кровью глотку, когда сабля рассекла её, словно создав вторую, кровавую улыбку. Третьего, со скверной, худо подогнанной бронёй, он пронзил насквозь, пинком отшвырнув того вниз, задержав вереницу русичей. Четвертый пытался кольнуть его пикой в живот; ткань саяна с жалобным треском лопнула, обнажив блестящий нагрудник, который пан всё это время носил на себе с параноидальной подозрительностью; четвертому он загнал клинок сабли точнёхонько промеж глаз. Пятый рухнул к первой ступеньке, поддерживая вываливающиеся из распоротого живота внутренности. Шестой, с хорошей, блестящей броней свернул себе шею, когда рычавший точно дикий зверь пан от всей души врезал ему по челюсти рукоятью; с захлебывающимся воплем шестой попятился, нечаянно кувыркнувшись через перила и приземлившись точнёхонько на голову. Его шея не выдержала веса тела самого пикинера и его же брони.
Когда оказавшийся в проходе аркебузир направил своё ружье в их сторону, снаряд попал прямо в голову рыжебородого шляхтича. Бледная как смерть девочка, которая в это время находилась за его спиной на самой верхней ступеньке, почувствовала липкую, горячую кровь на своей коже, почувствовала болезненные осколки кости, впившиеся в плоть. Со сдавленным, вибрирующим криком она забежала в одну из комнат так быстро, как могла, не придав значения залитой кровью и чёрной, подрагивающей жидкостью постели, проигнорировав цветы, стебли которых скручивались в спираль, проигнорировав то, как за окном медленно падали обратно в небо искры и пепел. Распахнув створки, слыша за спиной гулкий топот кованых сапог, она не задумывалась. Лишь, зажмурившись и задержав дыхание, как при погружении в ледяную воду, легко запрыгнула на оконную раму и сиганула вниз.
Брусчатка поглотила её, словно густая, липкая жидкость. Обхватила лодыжки, пачкая юбку и утягивая вниз, вниз,
вниз… Когда поверхность сомкнулась над её головой, девочка в ужасе распахнула глаза. Кровавое марево, рыжеватые всполохи, совсем того же цвета, что и мамины волосы… Чьи-то ледяные пальцы схватили её за лодыжку левой ноги, и прежде чем она успела вырваться, подобные острым иглам зубы погрузись в её плоть. Она закричала; пузыри вылетели из её рта навстречу поверхности, подальше от этого океана липкой, густой, алой крови, подальше от ребёнка, утягиваемого на дно тварью с сияющими бесконечной синевой глазами…
Она закричала вновь. Хруст в голове раздался вновь, но на сей раз он был…
иным. Явным, более настоящим; словно нечто наконец осмелилось заявить о себе миру, отыскало в себе силы для подобного заявления. Распахнув глаза, девочка, сотрясаясь всем телом, в страхе огляделась по сторонам. Крики, огонь и кровь… это всё ещё Могилёв. Не океан крови, не логово того существа… она сквозь зубы втянула горький, воняющий дымом, потом и кровью воздух, попытавшись встать на ноги — и с жалобным всхлипом рухнув обратно. Нога… похоже, падение было неудачным. От обиды и злости на саму себя она могла лишь заплакать.
— Нет, нет, — неслышно всхлипнула девочка, прижав ладонь к ноге, которую от боли хотелось попросту отгрызть, словно попавшей в капкан лисе. — Почему…
Треск в голове лишь усилился. Она вновь втянула в воздух, облизав пересохшие губы. Это казалось… правильным, и в то же время нет.
— Она… не сломана, — хрипло, дрожа всем телом прошептала маленькая цыганка, прижав обе окровавленные ладошки к ноге. — Я просто подвернула её. Больно, но нужно лишь немного надавить, вправить обратно… и всё будет
славно. Всё будет славно, всё будет…
И, содрогнувшись вновь, она медленно сняла с лодыжки позолоченный браслет, нерешительно взяв его в зубы, и, зажмурившись… резко надавила.
Боль ослепила вновь яркой, пронзительной вспышкой; стиснув в зубах свой браслет, девочка едва не перекусила его пополам. Прошло мгновение, другое, третье; вопли снаружи не утихали, но сейчас она чувствовала… чувствовала, как боль уходит. Слепящей, до слёз пронзительной судороге приходило на смену лишь ноющее раздражение. Она поднялась, зашипев с непривычки, но теперь…
Она всё-таки смогла подняться — и даже сделать шаг. Это было больно, мучительно больно, но… она смогла это сделать. Ещё шаг, ещё один… она поёжилась от странного чувства, охватившего всё её тело. Странное чувство… родства, чьего-то присутствия — неподалёку отсюда. Друг,
кто-то, кто мог помочь? Она не понимала. Лишь чувствовала.
— Там внизу кто-то есть! — неожиданно гаркнул кто-то наверху, из окна, откуда она спрыгнула вниз. Не оборачиваясь даже, девочка ринулась в сторону, откуда доносился этот немой зов, прихрамывая и судорожно дыша.
Словно крыса под полом, она пряталась в тенях; задерживала дыхание, прильнув к горячим стенам подожжённых домов, когда отряды пикинеров проходили мимо, всеми силами стараясь не кричать, когда холодные ладони ожившего мрака пытались разорвать её кожу, пытались заползти внутрь неё. Она хромала вперёд, к тому, от кого чувствовала пульсацию жизни, уже не волнуясь о том, чтобы на её юбке не осталось пятен.
Она и так вся в крови…
Босиком шлёпая по залитой кармином и углями брусчатке, маленькая цыганка, сама того не ведая, обнаружила себя на ступеньках дома войта. Дверь узкого, но высокого дома была сорвана с петель, по ступенькам медленно сочилась кровь. Она сглотнула, сделав шажок назад. Она чувствовала странный зов — негромкое, но настойчивое, ввинчивающееся в стиснутую в огненных тисках голову, ощущение родства. Там… находился кто-то, кто должен был быть другом. Ведь…
так?
Оклик за её спиной оборвал все сомнения. Пулей взбежав по ступенькам, она ринулась вперёд по коридору, перешагнув через неподвижное тело светловолосого клерка, уставившегося в потолок стеклянным, неподвижным взглядом. Оклеенные тонкой бумагой стены пестрели багряными каплями, когда она, следуя зову, юркнула в приоткрытую дверь… и оцепенела.
Вероятно, эта комната была канцелярией войта; деревянные шкафы со стеклянными створками были заполнены папками и стопками листов — таких же, что сейчас валялись по всему полу. Её взгляд лихорадочно прыгал — то на пришпиленное к стене пикой тело тучного, лысого мужчины с застывшей навеки маской непонимания и какой-то детской обиды, на неподвижное тело знакомого невысокого мужчины, всё ещё дёргавшегося на покрове из исписанной, залитой его кровью бумаги.
— Б-баро? — хрипло, недоверчиво прошептала девочка, обхватив плечи ладонями, в ужасе уставившись на скованное предсмертными судорогами тело цыгана, её прала. Она увидела, как его бесконечно чёрные глаза затравленно устремились к ней; кровавая пена на губах не позволяла промолвить и слова, но она с необычайной чёткостью осознала, что тот пытался сказать.
«Беги, фрала».
— А это ещё что за зараза?!
Она почувствовала, как кто-то схватил её за загривок, бесцеремонно попытавшись приподнять. Девочка не ожидала истошного, истеричного визга, вырвавшегося из её глотки; визга, от которого с жалобным звоном разбились стекла в окнах и дверцах шкафа, от которого треснула и потекла чернильница, запачкав очередной, так никогда и не подписанный приказ… Её выпустили, выругавшись сквозь зубы, но прежде чем она успела убежать, чей-то кулак в тяжёлой латной перчатке бесцеремонно ударил её в висок. Цыганка беззвучно рухнула, как тряпичная кукла.
— Очередная бродячая псина, — сплюнул, потирая правое ухо, мужчина, вышедший из-за её спины. С трудом перевернувшись набок и щурясь от боли, девочка подняла наверх мутный, расфокусированный взгляд.
Тот, что ударил её, был угрожающе высокий, широкоплечий мужчина с кожей, напоминавшей снег или молоко. Облачённый в доспехи он, совсем как пан Линевич, держал в своей руке саблю, молча разглядывая её сверху вниз со странным, необъяснимым выражением. В её груди что-то потянуло, дыхание спёрло от ужаса. Это чувство, странное ощущение родства, к которому её притянуло точно мотылька на огонь… оно исходило от этого человека. Человека, в предплечье которого находился окровавленный, переливающийся пронзительно голубым светом хрустальный осколок.
— Кончай её уже, — негромко прошипел тот, что попытался её схватить, с раздражением и непониманием уставившись на перепачканную в крови ладонь, которой он потирал ухо. — И так слишком долго тут пробыли.
Сомнение…
«Так надо». Не время колебаться.
«Они на войне». Но это чувство...
«Лишь показалось».
— Н-нет! — сдавленно всхлипнула она, попытавшись отползти, прижаться спиной к стенке. — П-пожалуйста, не н-надо!
— Чего ты мешкаешь? — недовольно гаркнул тот, другой, угрожающе хрустнув затекшей шеей.
Он… должен был стать другом. Почему? За
что? Неужели он не чувствовал? Эти слова, эти мысли в её голове не принадлежали ей самой. Нет, он
чувствует.
Он его подавил. Она была лишь помехой. На него смотрели, он не мог ударить в грязь лицом. Он занёс над головой клинок.
Девочка смотрела на него снизу вверх слезящимися глазами, с непониманием и болью… Она не ожидала подобного от того, кто должен был помочь, защитить, кого вся её сущность звала вторым, потерянным кусочком.
А затем время, дрогнув на миг сотрясшей его волной шока, застыло.
Даже стекающие по поверхности столика чернила остановились на половине пути. Искры неподвижно зависли в воздухе, как и сабля, которая должна была опуститься на её тело. Маленькая цыганка непонимающе сморгнула скопившуюся в уголках глаз влагу, медленно заозиравшись по сторонам. Плавные шаги за её спиной казались грохотом барабанов в ужасающей тишине, в которую она оказалась погружена.
— Ох, ну и ну… Какая драма, право слово!
Женский голос. Неизвестный, и в то же время одуряюще знакомый; девочка резко обернулась, тут же завопив от ужаса: прямо за её спиной, с интересом разглядывая бледного мужчину, занёсшего над головой саблю, уже готовую пронзить щуплое тельце девочки, стояла… стояло… она не была уверена, что этому могло быть описание. Она помнила рассказы о холодных мертвецах, помнила о сказочном народе, помнила о людях-волках, но это…
Женская фигура, объятая клубящейся, чернильной тьмой, облекающей её силуэт на манер живого плаща; белая, с синевой кожа, на которой проступали очертания созвездий, за исключением плаща ожившего мрака была совершенно нагой. На голове, проступив сквозь длинные, отливающие лунным серебром волосы, находилась пара небольших, чёрных рожек; гибкий хвост с острым кончиком подрагивал за её ногами, а глаза были подобны двум большим сапфирам. Глаза… такие же, что были у незримого чудовища, пытавшегося утянуть её на дно.
— И не подумаешь, что в одной из инкарнаций тебя прикончила твоя же половинка! — заливисто, практически радостно рассмеялась женщина, склонив увенчанную небольшими рожками и какой-то серебристой короной голову, чуть царапнув матовым, обсидиановым ногтем щёку мужчины. — А тебе редко везло в цепочке перерождений, девочка?
Она не ответила; попросту не смогла. Лишь, исступлённо дрожа, пыталась вымолвить хоть слово, спросить,
понять. Женщина, удостоив её наконец взглядом, с раздражённым вздохом наклонилась, чуть согнувшись и с кислой уже усмешкой окинув дрожащую цыганку.
— Я даже не буду тебя спрашивать. Всё равно это бессмысленно, — мрачно пробормотала она, протягивая руку. Девочка всхлипнула, попыталась отползти назад — но безуспешно. Ладонь ужасающего в своей красоте существа нащупала что-то, погруженное в её тело, и с силой потянула на себя.
Боль, которую она испытала в этот момент, нельзя было сравнить ни с чем — кто-то словно яростно пытался вырвать сердце из её груди, прямо сквозь кожу и рёбра. Девочка закричала вновь — дико, нечеловечески… рухнув на залитый кровью пол, маленькая цыганка попыталась вяло сопротивляться, отпихнуть женщину от себя; но та, спустя несколько секунд борьбы, со злым шипением сама выпустила нечто из рук.
— Это шутка такая? — низко прорычала женщина, яростно дёрнув чёрным хвостом и сделав шажок назад. — Слишком нестабильно, даже
теперь? Да будь ты проклята!
Девочка рвано, судорожно дышала, обхватив руками грудь. Пальцы нащупали нечто, что-то гладкое и немного влажное… её взгляд опустился вниз, и она, сквозь алое марево пульсирующей боли отрешённо подметила переливающееся жидкое серебро, испачкавшее её ладони.
— Плевать, — женщина со свистом втянула воздух, высокомерно приподняв подбородок и расправив плечи. — Я не сдамся так легко.
С кривоватой, хищной усмешкой она отступила чуть назад и медленно, лениво подняв ладонь в воздух, щёлкнула пальцами. Девочка непонимающе моргнула, вздрогнув, когда по ушам ударили возобновившиеся звуки. Чернила вновь потекли по столику, крики, треск пламени… Она поняла. Содрогнувшись, девочка резко, дрожа от ужаса и боли обернулась; именно в этот самый момент клинок сабли пронзил её грудь, перерубив сердце, практически отделив аорту.
—…что же он сделал с нами…
из нас… — тихонько промурлыкал низкий, бархатный женский голос, чем-то напоминавший голос мамы, когда сознание медленно затухало, лишаясь красок и звуков, покидая обмякшее тело маленькой цыганки.
Могилёв горел.
Какая поразительная тишина.









 Тема закрыта
Тема закрыта