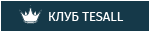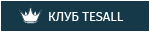Эразмо моментально узнал своё отражение. В клине Дозорных, остриё которого приходилось на Юстиса, крайним справа шагал лесной эльф в тёмном халате поверх гамбезона, державший в руке длинный костяной лук. От оригинала его отличали только гладиус на поясе, собранные в хвост волосы и лицо без боевого раскраса. Двойник цокнул языком, улыбнулся и громко сказал:
— Ребята, когда мы с ними разделаемся, приглашаю вас на ужин! Моя жена приготовит пирог с медвежатиной, пальчики оближешь.
Эразмо много раз думал о том, каким может быть его противоположность, но всегда упускал из виду главное: в первую очередь он был не преступником, не наёмником, не подлецом и даже не наркоманом.
Он был трусом.
Босмер из зеркала не рисовался, он
подбадривал других — у него было столько смелости, что он мог ей поделиться. В детстве он не ворочался на соломе, не смыкая глаз, зная, что силуэты чудовищ, зловеще черневшие на серых стенах, зашевелятся, стоит отвести от них взгляд. Когда вырос — не вглядывался на стоянках в темноту, силясь услышать за треском костра шаги стражников. В джунглях он не натягивал поводья ездового оленя, боясь свернуть с проторенной тропы, потому что под каждым бутоном прячется душитель, а за каждым кустом притаился сенч-тигр. Он никогда не юлил, избегая открытой ссоры.
А сейчас он смело шёл навстречу маленькому босмеру.
Но в зеркале всё было наоборот, и Эразмо, пятясь, отступал в кладовые.
— Ивери, почему ты выбрала не героя, а подонка?
— Потому что герои слишком часто получают по голове.
В подтверждение её слов Марко шлёпнулся на землю, как навоз с лопаты фермера. Дозорные и лжедозорные рассредоточились по зале, а маленький босмер скрылся от их глаз, юркнув в один из коридоров ветвистых подземелий. Он услышал приглушённые шаги кожаных сапог по металлу. Звук приближался, становясь громче. Он успел приготовиться, прежде чем услышал собственный голос:
— Сдавайся, парень. Попробуешь выкинуть что-нибудь — и я утоплю тебя в слезах Мары.
Дозорный выглянул в коридор, не подставляясь для лука в руках грабителя, и Эразмо увидел на его коже сетку белых шрамов. Среди них выделялись три оставленных агромадными когтями неведомого чудовища: один шёл по нижней челюсти, другой обнимал шею под подбородком, как ремень шапеля, а третий поперёк пересекал горло. Ему не нужны были искусственные раскраски, потому что у него были живые свидетельства своего мужества, и за это маленький босмер его ненавидел.
Он немножко ненавидел его за то, что двойник был набожным человеком, а то и священником; за то, что дома его ждала не бабушка, а жена и наверняка дети; но больше всего — за спокойный уверенный голос. За быстрые, но не суетные движения. За то, что когда он встречался с даэдра, он не распахивал окно, а расстёгивал оружейный пояс. За то, что двойник отнял у него право прикрываться слабостью тела. За то, что выжег калёным железом у него на лбу постыдное клеймо «трус».
В своё время Эразмо провёл десятки часов, стоя с палкой в левой руке. При выстреле она плавно изгибается в локте, точно дуга лука; в ней не должно быть даже еле заметной дрожи — это собьёт точность. Ещё в юности он добился идеального положения тела и рук и давным-давно стрелял, не думая, однако сейчас призадумался, вспоминая неловкие движения племянников. Если он сыграет плохо, это не укроется от внимательного взгляда двойника, который владел луком не хуже него.
Рука, обхватившая рукоять, выпрямилась, как засохшая ветка. Стрела подпрыгнула на локте. Он отклонился назад, увёл голову вбок и выстрелил, охнув от боли, когда стрела встретила на пути собственный локоть. Костяной наконечник вяло стукнулся о стену в трёх футах от двойника, не повредив железный лист. Стрела целой упала на землю. Эльф знал, кого двойник увидел перед собой: лучника-неумеху, не представлявшего опасности. Он поверил. Он расслабился и вышел из-за угла, держа Эразмо на прицеле:
— Брось оружие.
Маленький босмер аккуратно положил лук на землю и расстегнул пояс с одним кинжалом — или двумя, как виделось двойнику, — и он свалился наземь. Наконечник оперённой ржаво-рыжими перьями стрелы смотрел ему в грудь. Босмер из зеркала видел в нём превосходную мишень.
Но в зеркале всё было наоборот, и мишенью стал он сам.
Блестящий от яда дротик попал в центр размеченного круга — точно в лицо двойника. Он потянулся к нему правой рукой, выронив из пальцев стрелу — и получил второй дротик в зелёную вену на тыльной стороне ладони. Дозорный бросил и лук, чтобы вырвать оба жала, но когда они стукнулись о пол, было уже поздно. Вурали побежал по его венам, отравляя тело.
Сперва у него подкосились ноги. Яд забрал ступни, которые подломились, изломав голенища сапог, и восходил, пожирая колени и бёдра. Суставы неестественно вывернулись, будто ноги его были вылеплены из мягкой глины, и он завалился назад, ударившись головой о ровные металлические плиты, выложившие стены узкого коридора.
Должно быть, это было безумно больно, но он удержал крик в груди. Он превосходно владел собой.
— Я тебя обманул. Меня называют самым метким стрелком по коленям в Сиродиле.
— Никогда не слышал такого прозвища.
— Это моё самоназвание.
Потом его предали руки.
Он схватил свой лук, но пальцы разжались; на мгновение рука со скрюченными пальцами кривой корягой зависла над полом, а затем пала, как безветренный парус. Судорожными движениями лесной эльф пополз выше по стене, извиваясь всем телом подобно змее; его лицо почернело от боли. Прислонившись спиной к стене, он попытался сесть, опираясь на вторую руку, но и она вдруг оказалась неверной подругой, подломившись под ним, и он рухнул набок. Эразмо с надеждой окинул взглядом изломанное тело. Убивать дозорного нельзя, но покалечить — можно.
— Сломал шею, когда падал?
Двойник покачал головой, не глядя на него — его взгляд всё ещё был устремлён на лук.
— Жаль. — Маленький босмер взял то, что дозорный так желал. Хорошее оружие во всех мирах: на тонкую рукоять потребовалось несколько ударов кинжалом, а толстые плечи из костей и роговой ткани он не прошиб, едва разрубив до середины.
Он швырнул два разломанных куска наземь.
За руками дозорному изменило тело. Он заметался, как рыба, выброшенная на берег, но после мощной судороги безвольно упал, завалившись вниз лицом. Эразмо пинком перевернул двойника: он хотел видеть его лицо, пока тот терял единственное, что безраздельно ему принадлежало. Грудь лесного эльфа ввалилась, будто от удара тараном.
И наконец, яд добрался до головы.
Он уронил подбородок на грудь и задышал быстро, неритмично, с гулом паровой машины, почти не поднимая дыханием сдавленную грудь; из приоткрывшегося рта побежала слюна, точно у сторожевого пса в жаркий день. Единственное, что смог сделать двойник — возвести на него помутневшие от отравы и боли глаза.
В них не было страха.
Эразмо знал, что будет дальше: вурали, предназначавшийся «подпольной миллионерше» и оказавшийся так кстати, на четыре-пять часов завладеет его телом, а после кровь подавит его, и он уступит, возвращая двойнику власть над собой. К тому времени грабители будут уже в своём мире.
Но...
Но второй раз в жизни Эразмо хотел кого-то убить — убить не ради выгоды и не ради собственной безопасности, убить ради самой смерти; стереть с лица земли, уничтожить, потому что жить с врагом на одной земле, дышать одним воздухом — невыносимо. Он бы вряд ли задумался об этом, но Ивери, стоявшая по правую руку, навела на мысли о её муже, который впервые вызвал у эльфа такое желание. Второй раз он хотел убить, но опять не мог этого сделать.
Он не убил Ротиса, потому что это было невыгодно.
Он не убьёт двойника, потому что нарушит мировой закон.
В отличие от Ротиса, босмер из зеркала не будет торчать день деньской перед глазами. Но Эразмо будет знать о том, что он есть. О том, что он встанет, подлечится, прикупит новый лук или, что хуже, теперь всегда будет сражаться с чудовищами лицом к лицу, и продолжит бродить по Тамриэлю, нагоняя на врагов ужас и никогда не испытывая его сам. Он будет напоминать о том, каким Эразмо мог бы стать, если бы преодолел страх.
Он так и вернулся бы в залу, но Ивери маячила живым напоминанием того, как давно он не следовал зову сердца, и эльф стащил с головы маску Авидо. Остальные были так далеко, что он не слышал, дерутся они до сих пор или нет; он опустился на пол рядом с босмером из зеркала и сказал:
— Имперец в золотой маске, а снять — кто я без неё? Наркоторговец, убийца, грабитель, каннибал, пришелец из другого мира и твой злой двойник. Я принимал наркотики, которые сам делаю. Я нарушал заветы Мары, в которую ты веруешь: у меня было больше сотни любовниц, в основном — замужних. Я богохульствовал, изображая священника, и творил зло от его имени. А сейчас мы ограбим этот банк, и ты не сможешь нам помешать.
— Я разочарован. Мой тёмный двойник должен быть злодеем, а не жалким трусом, который играет не по правилам. Наш бой должен был стать сражением века, — с трудом сказал двойник. Горло дёргалось, подкидывая подбородок, и он кивал головой, точно болванчик. В его глазах не было страха: только удивление и презрение.
Страх не появился и тогда, когда Эразмо приставил кинжал к шее двойника. Стальное лезвие разорвало звенья тонкой бронзовой цепочки; эльф снял амулет и отбросил его прочь.
— Я тоже разочарован. Но я убью тебя, и это закончится. — Он сам удивился, какое облегчение принесло это признание; рука, сжавшая его сердце, отпустила. Он с удовольствием заметил, что на дне расширенных зрачков сверкнуло что-то, похожее на страх — если это не был блик искусственного освещения:
— Ты не можешь меня убить. Ты не должен. Это разорвёт ткань мироздания...
— Не могу. Но я
хочу, и поэтому убью, — Эразмо не знал, что эти слова способны принести такое наслаждение. Он поставил кинжал в конец шрама, обводившего нижнюю челюсть двойника, и вдавил рукоять, пуская первую кровь; он без брезгливости взял мокрый от слюны подбородок и запрокинул голову, открывая беззащитную шею и заглядывая лесному эльфу в глаза.
— Можешь прочитать себе отходную молитву, ибо сейчас ты предстанешь перед Богами.
Но дозорный не хотел молиться. Он повторял, как заведённый:
— Моё убийство от собственных рук нарушит ход времени. Даже мудрецы не знают, какие глубокие раны этот парадокс нанесёт вселенной. Опомнись. Это немыслимо... невозможно...
— А мне наплевать, — сказал маленький босмер и услышал, что его голос стал неторопливым и спокойным, точно он черпал смелость у своего отражения.
Быть может, так оно и было, потому что в чёрных дисках, сожравших половину жёлтой радужки, горел страх, который уже нельзя было списать на игру света. Всякое живое существо трепещет перед лицом неизбежной гибели, и дозорный не был исключением. Эразмо глядел в глаза двойнику всё время, что резал его шею, повторяя лезвием кинжала белый след на коричневато-зелёной коже; он не мог чувствовать реакции окоченевшего тела под собой, но видел, как страх заливается в глаза врага, озаряя их огнём безумия, как поражает кровь на пару с ядом, и панический ужас пленит его разум, принуждая одеревеневший рот шептать умоляющие слова. Эльф чувствовал на своих руках тёплую кровь, а на губах — растянувшую рот улыбку; краем глаза он видел, что багрянец заливает халат двойника. Он углубил лезвие, одним росчерком кинжала наполовину отрезав дозорному голову. Из приоткрытых губ вырвалась грязная слюна, смешанная с кровью; пламень страха в последний раз вздрогнул в янтарных радужках и опал, будто кто-то погасил внутри черепа два ярких костра. Уголки вздёрнутых губ, которые молились о пощаде не Богам, а убийце, безжизненно опустились. Глаза дозорного потемнели, как кора мёртвого дерева.
Страх ведёт нас до самой смерти, и когда мы наконец встречаемся с нею, в конце пути не остаётся ничего: ни храбрости, ни воли, ни веры.
Только страх и темнота.




 Тема закрыта
Тема закрыта